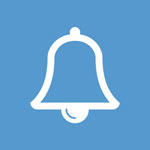Прочитала новую книгу Еганы Джаббаровой
«Руки женщин моей семьи были не для письма».
В 11 небольших главах писательница рассказывает историю о себе и своей семье, используя разные части тела как метафоры.
Живот превращается в панцирь для защиты еще нерожденного, рот в проигрыватель для убаюкивания, а руки в инструмент постоянной работы.
В то же время все части тела, несмотря на их высокую функциональность,
не становятся ценными в обществе. Так, в живот больно ударяется мужская нога, рот бережно замалчивает страшные тайны, а руки черствеют под натиском тяжелой бытовой работы.
Постепенно, раскрывая ограничения женской жизни в азербайджанской семье, Егана рассказывает историю своей болезни. Дистония заставляет тело содрогаться, не слушаться и изрыгать судороги.
Ее руки скрючиваются, нога волочится по земле, а прежние густые черные брови превращаются в некрасивые зигзаги на лице. Телесный бунт уничтожает прежнее тело Еганы, но вместе с тем формирует новое, освобождая ее от патриархальных оков.
Перед операцией ей сбривают
волосы, которые в традиционном обществе считаются ценным активом, символизирующим крепкое здоровье и сильные гены. Непослушная
нога заставляет носить с собой трость, превращая девушку репродуктивного возраста в пожилую женщину.
Спина сгибается под тяжестью ответственности: в тюркских и мусульманских семьях
женщина отвечает не только за свои поступки, но и за действия своих детей. Любой поступок ребенка не в пользу семьи воспринимается как свидетельство плохого воспитания, невыполненная задача неудавшейся мамы.
Острое чувство несправедливости расселяется по ее телу физическими недугами. Теперь, с дистонией, Егана больше не может следовать устоявшимся правилам.
Используя
тело как инструмент, Егана мягко исследует, каково быть чужаком в семье и обществе. Со временем ее язык перестает воспроизводить азербайджанские слова без акцента, но, как бы она ни говорила на русском, он никогда не станет для нее родным.
Стоит вспомнить ее эссе
«Мое сложное имя» о последствиях постколониальности, которые превращают Егану в незнакомую «Елену».
Если же перейти от самоощущения к практическому применению, то язык Еганы в письме – это не просто проза, а поэтическая проза, где слова оборачиваются в обертку образов, усиливающих их воздействие на читательниц.
Так же, как язык,
меняется и само восприятие ее тела и рук. Если раньше руки ее семьи были предназначены для приготовления еды, мытья посуды и успокоения ребенка, то теперь с каждой главой становится все яснее, что ее руки нашли письмо.
Писательницу разрушает болезнь, но только вместе с ней она разрушает привычный цикл насилия. Она переизобратает себя и показывает всем, как
через боль рождается освобождение.