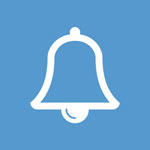L’art russe mais pas que
Channel's geo and language:
not specified,
not specified
Category:
not specified
Канал Кристины К о русском искусстве и не только. Для связи @dollibel Related channels
49
subscribers
Popular in the channel
На днях, листая свежий выпуск Grande Galerie (официальный журнал Лувра) увидела, что музей приобр...
Post #11:
Photo
Сегодня День Незавиcимости Казахстана. Что бы это ни значило, я – по гениальному совпадению – ока...
Доброе воскресное утро ! Решила что по воскресеньям буду писать о стихах. Готовлю сейчас доклад ...
VS et JB, Chartres, années 1970